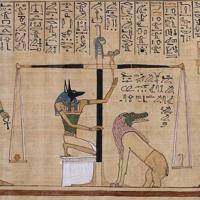
О процессе всерьез
Полуакадемический курс актуальных проблем гражданского процесса. Подается аль денте.
Show more2 184
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
- Subscribers
- Post coverage
- ER - engagement ratio
Data loading in progress...
Subscriber growth rate
Data loading in progress...
Photo unavailableShow in Telegram
Субботнее: заказываю на Госуслугах документ из ЕГРН, а там такая красота. С известным стикером (следующим сообщением) Росреестр и компания, очевидно, не согласны.
👍 9
VII. Третий лишний
Сколько ординарных инстанций оптимально для прохождения дела? Чем больше инстанций, тем лучше — больше возможностей для исправления судебных ошибок. Представителям-то, конечно, лучше, но это и возможность создания судебных ошибок. Великим достижением Устава гражданского судопроизводства 1864-го года считался переход на трехинстанционную систему, считая Сенат. Но в судах общей юрисдикции до 01.10.2019 чувствовалось, что двух обычных инстанций маловато. Право на судебную защиту весит не меньше и не больше права на определенность положения.
Чтобы решать дела кое-как, три инстанции не нужно. Барак в «Судейском усмотрении» отмечал, что сложные с точки зрения права дела в любом случае решаются по принципу «где два юриста, там три мнения», и одно не лучше другого. Для повторного рассмотрения «на всякий случай» апелляции достаточно, высший суд при выборочном рассмотрении должен заниматься развитием права, а не исправлением ошибок. Где в таком случае системное место «сплошной кассации»?
Этот суд должен заниматься имеющим научную основу поддержанием единообразия судебной практики, то есть выявлять правовую проблему и предлагать ее решение для всего округа, и время от времени, когда это уместно — занимать иную позицию, чем позиция какого-то другого округа, провоцируя тем самым высказаться ВС. Разные его составы не должны занимать разную позицию по вопросам права, потому что это единственный способ дать определенность по правовой проблеме, по которой нет сформированной позиции ВС, жителям кассационного округа. И для правильной постановки этих проблем и корректировки их решений они должны регулярно обсуждаться научно-консультативным советом суда с участием всех значимых юридических факультетов вузов округа.
Позиция кассационного суда может быть революционной, но она ни при каких обстоятельствах не должна быть бездарной, потому что это катастрофа для одной десятой части страны. Такой суд моментально растеряет авторитет, который ему и так сложно приобрести — нет такого суда первой или апелляционной инстанции, в котором не считали бы, что в кассационном суде сидят люди, которые не понимают, как у нас тут все устроено, и вообще только и делают, что мешают работать.
Рассмотрим сказанное на примере.
Общепринятым в судебной практике является положение, что обоснованность иска оценивается судом на момент удаления суда в совещательную комнату, а не момент его предъявления. Это правило находится в диссонансе с тезисом ВС РФ, что «отказ от иска является правом, а не обязанностью истца» (интересно, что это за право такое, поддерживать уже удовлетворенные требования? Ну да ладно, перечень прав в Конституции открытый, пусть будет и такое право), и может вызывать затруднения при применении статьи 319 ГК РФ, но при обратном правиле проблем еще больше, и в первую очередь — с последующим зачетом перечисленных в процессе сумм. Как минимум во вводной части решения должна быть указана дата предъявления иска, а все приставы страны должны знать, что платежки после этой даты тоже нужно принимать в счет погашения долга.
В этой связи тезис «[п]еречисление ответчиком на счет истца требуемой денежной суммы в процессе рассмотрения дела, до вынесения судом решения, не свидетельствует о необоснованности иска», мягко говоря, небесспорен. Все же понимая, видимо, вышеизложенную проблематику (спасибо и на том), кассационный суд предложил указывать в резолютивной части решения на признание его не подлежащим исполнению. Неплохо было бы сослаться на норму права, которой предусмотрена возможность суда так поступить — действующий закон предусматривает это только в случае утверждения мирового соглашения (абзац третий части 13 статьи 153.10 ГПК РФ), и то уже после вынесения решения. Можно допустить аналогию права (часть 4 статьи 1 ГПК РФ), но тогда так и надо было написать.
В общем, большое спасибо Третьему КСОЮ за то, что без работы мы не останемся. Правда, немного жалко собачку (участников спорных правоотношений).
Оставайтесь с нами! Скоро Новый год, будет еще праздничней.
👍 3👎 1
Поиск имущества управляющим происходит в интересах кредиторов, поэтому считаю, что если они не проявили интереса и не подыскали кандидатуру управляющего, надо просто завершать процедуру с освобождением от долгов и всё. Еще листы им выдавать не хватало, а потом спорить, на что обращается взыскание, а на что нет.
Учитывая, что в 80% дел о банкротстве физических лиц вообще никакого имущества не обнаруживается, можно было бы пойти и дальше — должник дает клятвенное заверение, что имущества и подлежащих оспариванию сделок нет, об этом делается сообщение в ЕФРСБ, если за определенный срок никто из кредиторов не заявил желания профинансировать процедуру, должник освобождается от долгов (естественно, с возможностью пересмотра в случае недобросовестности и т.п.). Похожим образом сейчас устроено внесудебное банкротство. Но это уже из категории предложений по совершенствованию законодательства
Repost from Shokobear (Олег Зайцев о банкротстве)
В новом Обзоре ВС по арбитражным управляющим наконец удачно решена мучительная проблема того, как поступать, если в деле о банкротстве гражданина никто не соглашается быть финансовым управляющим.
Я предлагал возможные пути решения еще в 2016 г., в частности, путем возложения функций управляющего на самого должника.
Вскоре СКЭС обоснованно указала, что неправильно будет прекращать в этом случае дело о банкротстве и лишать таким образом должника права на освобождение от долгов - для этого ВС предписал судам самим активно искать управляющего.
Однако вечным такой поиск быть не может и потому радует, что новый Обзор в п. 10 элегантно решает этот вопрос, признавая, что суд вправе в таком случае завершить процедуру банкротства, в т.ч. с освобождением от долгов.
Чаще всего в таких ситуациях в конкурсной массе не будет никакого имущества и потому избранное решение по существу очень похоже на уже известное решение исключать из ЕГРЮЛ юрлицо, дело о банкротстве которого прекращено в связи с отсутствием средств на расходы.
Остается уточнить, что делать, если в конкурсной массе имеется все же какое-то имущество.
Одним из возможных вариантов будет указать в определении о завершении, что освобождение от долгов распространяется только на будущее (на имущество, которое гражданин приобретет после завершения процедуры), а для обращения взыскания на конкурсную массу выдать кредиторам исполнительные листы.
VI. Британские ученые доказали
Постановление КС РФ от 20.07.2023 № 43-П вызвало новую волну обсуждения актуальных проблем института судебной экспертизы. Само постановление назрело давно (норма очевидно неконституционная, но даже у заявителя по делу ушло на демонстрацию этого шесть лет), хотя острота вопроса была снижена тем, что предусмотренное АПК регулирование обычно не оставляло эксперта с сомнительной дебиторской задолженностью вместо денег. Ясно было и то, что КС не обяжет законодателя вернуться к порядку издержек, который был предусмотрен ГПК РСФСР и сейчас предусмотрен в уголовном процессе: во-первых, дорого-богато, во-вторых, масштаб угрозы конституционным правам в гражданском процессе не тот (хотя покидающий прямо сейчас КС РФ Гадис Абдуллаевич Гаджиев любит говорить, что цивилистика тоже бывает драматичной). Вместо этого произошло смещение в сторону АПК: авансирование по общему правилу, оплата за счет бюджета в исключительных случаях (в АПК как раз их не бывает, потому что «денег нет», но потому, что в уголовных делах так было всегда, в судах общей юрисдикции с этим может быть попроще).
При этом постановление изобилует не такой уж конституционно-правовой материей в духе «если у стороны нет денег, вы подумайте еще, а надо ли вам вообще проводить эту экспертизу».
Не будем обсуждать очевидные ошибки вроде вынесения на экспертизу вопросов права (вроде вопроса о моменте наступления неплатежеспособности должника, о недопустимости вынесения которого на экспертизу пришлось высказаться даже ВС РФ в определении от 28.09.2020 № 310-ЭС20-7837). Действительно, а когда суду надо проводить экспертизу? А никогда. Проводить ее, как и приносить любые доказательства, в состязательном процессе надо сторонам.
Действующее законодательство предусматривает две формы внесения в процесс специальных знаний — заключение эксперта и консультация специалиста. Такое привлечение происходит только по определению суда, участвующие в деле лица имеют лишь совещательный голос по вопросу о кандидатуре эксперта. Поскольку проведение экспертизы требует больших усилий, чем исследование принесенных сторонами доказательств, а приходить к выводу о том, что выбрал плохую кандидатуру, сложно и психологически, создается почва для предвзятого отношения суда к заключению («нет оснований не доверять», если они не совсем уж налицо), и в последующем опровергнуть выводы эксперта крайне сложно. В суде очень хорошо знают, кто делает хорошие заключения, а кто нет, но когда эксперта выбирает суд, здесь может возникнуть и почва для коррупционной заинтересованности. Проблему пытаются разрешить (большой вопрос, помогает ли это) назначением экспертиз в государственные учреждения, и из-за этого очередь на их проведение по некоторым видам экспертизы может достигать нескольких лет.
При этом понятно, что зачастую стороны желают получить экспертное мнение (уж хотя бы чтобы оценить шансы на успех) до возбуждения дела, чем обусловлено широкое распространение досудебных «экспертных» заключений. Само по себе это неплохо, но потом эти заключения несутся в суд в качестве доказательств при том, что являются доказательствами недопустимыми (уж хотя бы потому что заключение проводится без другой стороны и ее права задать вопросы, а также без контроля за сбором и передачей предметов исследования), но зачастую принимаются судами из соображений экономии; популярной ошибкой при этом является перенос бремени доказывания на ответчика («если вы не согласны, ходатайствуйте о проведении экспертизы!»).
Все эти проблемы решаются переводом экспертизы на состязательную (и потому единственно конституционно допустимую) модель. Эксперта ищет себе сторона и платит ему сторона, взыскивая потом вознаграждение как часть судебных издержек. Если эксперт оказывается какой-то не такой, использует маргинальные методики, не вызывает другую сторону для постановки вопросов и участия в экспертизе, не соблюдает порядок сбора материалов исследования — вы просто проигрываете дело, и все, никаких повторных и дополнительных экспертиз не будет.
Оставайтесь с нами!
👍 9👎 5🤮 5❤🔥 2
V. Игра была равна
«Людей, о коих не сужу, затем, что к ним принадлежу». Я не Пушкин, поэтому сужу. Банкротным юристам нравится тешить себе самолюбие мыслью, что в банкротстве происходит что-то особенное, но это не так. Это обычное гражданское судопроизводство.
Взять хотя бы пункт 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35, имеющего значение, сравнимое с самим Законом о банкротстве. Для своего времени он был новаторским, но начинает морально устаревать.
Ссылку на статьи 71 и 100 в целом, из которых делается вывод (который, то есть, хорошо бы обосновать), а вовсе не воспроизводится их буквальное содержание, не будем ставить автору в упрек. После оборота ВС РФ «по смыслу арбитражного процессуального законодательства» смотрится даже блекло.
«При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности»: главное выделить общее и частное — а, например, при признании сделок недействительными не принципиально представление достаточных доказательств наличия и размера задолженности ответчика?
«...при установлении требований (в двух предложениях подряд «при установлении требований», кошмар!) в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ» — а с чего бы она не подлежит применению? Во-первых, никаких подобных оговорок в ней или других нормах закона нет, а во-вторых, как уже указано выше, в делах других категорий тоже было бы неплохо представлять достаточные доказательства наличия задолженности, но в них она (общее и частное!), стало быть, все-таки применяется.
«... при установлении требований (уже не хочется ерничать, когда очень надо повторить, то можно) в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств» — а в совокупности с чем освобождает?
«При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств (наличными могут быть деньги, денежные средства бывают только безналичными), подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру (а если не только этим, а еще договором займа?), суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора предоставить должнику соответствующие денежные средства...». Ну допустим, а это разъяснение действительно имеет отношение только к особенностям дел о банкротстве? В исковом деле для выяснения вопроса о безденежности займа нельзя предложить истцу представить сведения о доходах?
Если управляющему и кредиторам безразлично, что в деле будет установлено необоснованное требование, почему суд должен выяснять этот вопрос по своей инициативе, тем более что пункт 30 постановления ориентирует на предъявление требований в установленный срок ровно с этой целью для заявления возражений? В дело представлена накладная, возражений от управляющего и кредиторов не последовало — должен ли суд по своей инициативе выяснять, откуда кредитор взял товар и куда его дел должник? Если нет, то чем эта ситуация отличается от договора займа?
Никакого «повышенного бремени доказывания» в рамках одного вида судопроизводства нет и быть не может. Повышенное бремя доказывания в уголовном судопроизводстве объясняется тяжестью последствий и невозможностью полной компенсации при последующей отмене решения. В банкротстве это в наличии еще в меньшей степени, чем в гражданском судопроизводстве — как правило, определения о включении в реестр не исполняются никогда. Если уж на то пошло, в банкротстве может быть пониженный стандарт доказывания, если бы он существовал.
В общем, по существу правильно, но вышло забивание гвоздей микроскопом. А вот в пункте 24 от этого все пошло наперекосяк. Но об этом позже. Оставайтесь с нами!
IV. Свидетель из Фрязина
Все субъекты права делятся на физических и юридических лиц, все юридические лица на коммерческие и некоммерческие организации, все некоммерческие организации — на фонды и ассоциации. Конечно, поставить три (а то и пять) там, где должно быть два, можно, но ни к чему хорошему это не приведет.
Доказательства тоже делятся на два вида — личные и вещественные, в зависимости от следовоспринимающей материи — сознания человека или вещей (не в гражданско-правовом смысле :). Ведущую роль в российском гражданском процессе получил такой подвид вещественных доказательств, как письменные, в которых след события отразился в виде человеческой речи. А личные доказательства находятся где-то на маргинальных ролях. Ну да, давайте допросим свидетеля... Если вы его привели... А важнее всего обычно показания свидетеля, который их давать не хочет.
Разумеется, не может давать свидетельские показания и какие-либо «объяснения» юридическое лицо, поскольку у него нет сознания. Сознание есть у его представителей (если угодно, органов тоже), но представитель не может давать показания за представляемого. Особенно смешно, когда подают «объяснения в порядке статьи 81 АПК РФ» вместо отзывов, чтобы не направлять их другой стороне — анекдот покруче, чем «Колобок повесился». Это, конечно, не препятствует сообщению представителем стороны определенных фактических сведений по делу, но так выполняется лишь бремя утверждения, а не бремя доказывания, и при оспаривании этих сведений они должны быть подтверждены доказательствами. Но только при оспаривании — требовать подтверждать обстоятельства, которые другой стороной не оспариваются, не только нарушение части 3.1 статьи 70 АПК РФ, но и нарушение здравого смысла и логики состязательности.
При рассмотрении уголовного дела против бывшего министра экономического развития с большим трудом, в суде апелляционной инстанции, в закрытом судебном заседании, но был допрошен главный свидетель обвинения. В гражданском процессе даже на такую сомнительную роскошь рассчитывать не приходится. Принудительный привод появился только в КАС РФ, который еще надо убедить применить по аналогии (и чтобы потом в этом убедилась ФССП), и которым предусмотрена возможность отдельного обжалования определения о приводе, а то вдруг суд захочет привести кого-то не того.
Другой проблемой является необъяснимое выведение объяснений сторон за рамки свидетельских показаний. Не существует причин, почему одна из сторон не может быть допрошена в качестве свидетеля — свидетель является источником информации, и эта его роль никак не связана с реализуемыми им как истцом и ответчиком правами и обязанностями. Определенное время можно решать проблему с помощью доказательственных презумпций, например, оценки процессуального поведения — ответчиков, которые не дочитали АПК РФ до части 2 статьи 125 и думают, что от них нельзя истребовать доказательства, все меньше. Но если какие-никакие, но доказательства ответчиком все же представляются, то отсутствие у истца возможности дать свои показания под присягой или допросить ответчика существенно ограничивают его в возможности доказывания и истребования доказательств от ответчика. Многие дела потому и становятся предметом судебного разбирательства, что какие-то обстоятельства не были зафиксированы на бумаге.
Ситуация постепенно исправляется — к примеру, сначала на уровне коллегии, а потом и постановлением пленума (абзац четвертый пункта два постановления Пленума ВС РФ от 23.12.2021 № 46) был допущен пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам ввиду сообщения одной из сторон ложных сведений. Но накопившаяся инертность такова, что проблему сложно будет искоренить без законодательных изменений.
Тем не менее требуйте допроса свидетелей, раскрытия ответчиком в отзыве всех существенных обстоятельств дела, применения судом положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ (и в делах о банкротстве тоже — сегодня должен был быть пост об этом, но стало ясно, что он требует подводки), пересмотра дела в случае выявления дачи другой стороной ложных объяснений, и оставайтесь с нами!
https://t.me/bbbreaking/162220
Вспоминается старый анекдот: "что за шум на улице? А кто же им мешает?". И мешают несколько десятков тысяч (!) исполнительных производств у каждого судебного пристава в больших городах, а не отсутствие полномочий. Даже практики ВС о внеконкурсном оспаривании навалом, правда, пока только на уровне коллегий, уж не говоря о литературе. А вот если законом будет прямо предусмотрено оспаривание сделок только по одной категории должников, у других категорий появится серьезное формально-юридическое возражение (на пустом месте).
Раньше всех. Ну почти.
❗️Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что в правительство внесен законопроект, который помимо прочего позволит судебным приставам обжаловать сделки злостных алиментщиков Принципиальный момент: разрывать сделку будут лишь в том случае, если с ее помощью нерадивый отец пытался спрятать имущество, пишет "Российская газета".
III. Негативный перенос
Впервые термин «обвинительный уклон в делах о привлечении к субсидиарной ответственности» (а в других, то есть, нормально?) появился в определении ВС РФ от 10.11.2021 № 305-ЭС19-14439(3-8) и относился к ситуации привлечения к такой ответственности не особенно влиявших на банкротство должника членов его волеобразующих органов. В народ, однако, он пошел: расцвели обсуждения «субсидиарного терроризма» и превращения дел в «трагедию» (ссылок давать не буду).
Ключевая проблема на самом деле в другом: ведут эти обсуждения люди, гонорары которых платят за счет украденных у кредиторов денег.
Никаких эмпирических оснований предполагать, что в делах о привлечении к субсидиарной ответственности наблюдается какой-то «обвинительный уклон», нет. Наоборот, по данным ЕФРСБ примерно в половине случаев такие заявления остаются без удовлетворения. 50% «оправданий» — какой же это «обвинительный уклон»? Об этом можно было бы говорить, если бы заявления удовлетворялись в 99% случаях, как это имеет место с обвинительными приговорами. Как бы ни была развита стадия предварительного расследования, невозможно ошибаться в 0,1% случаев. Но и в США оправдательными приговорами без учета дел со сделкой со следствием кончается около 20% уголовных дел, а не 50! Если на основании этих данных о чем-то и можно говорить, так это об оправдательном уклоне в делах этой категории.
Нет для этого и экономической базы. Типичное дело о банкротстве такое же, как типичное юрлицо — ООО, единственный участник и генеральный директор, уставный капитал в десять тысяч рублей, состоящий из унесенного домой стола.
Порок российского законодательства в простоте учреждения юрлица (сколько мучений нужно, чтобы появилось физическое лицо — почему здесь должно быть проще? Такой же субъект права! Пока это так только с НКО — кто в Минюсте юрлицо регистрировал, тот в цирке не смеется). Минимальные требования по уставному капиталу (сравните с немецкими 25 тысячами евро — и, думается, только попробуй реально их не внести), регистрация за три дня... Искушение злоупотребить корпоративной формой огромно, особенно при отсутствии какого-либо контроля со стороны участников, с которыми зачастую имеется совпадение в одном лице (либо при их попустительстве или соучастии).
Ни один серьезный кредитор не даст такому лицу денег без поручительства. А кто попроще, и не подумает его попросить, а то и оскорбит такой просьбой. Является ли потакание правовой безграмотности и плохим деловым традициям «драйвером экономического роста»? Стоит отметить, что дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей, возбужденных по заявлению кредиторов, в разы меньше, чем дел о банкротстве юридических лиц.
Традиционное объяснение ограниченной ответственности заключается в предоставлении возможности ограничить свои риски инвестициями при ведении рискованного бизнеса. Но рискованный бизнес — это вакцины новые делать. Микробизнес с ограниченной ответственностью — это невероятный бред. О такой защите речь может идти только в случае, если объем инвестиций (де-факто уставного капитала) все же является существенным.
Есть и процессуальное измерение проблемы — в делах о банкротстве кредиторы, как правило, находятся в состоянии неосведомленности о делах должника. Никакой возможности получить эту информацию не от директора у них нет, они же не могут провести у него дома обыск, изъяв всю технику — там-то доказательства нашлись бы, пусть молчал бы дальше сколько хочет. Поэтому они только и могут строиться по обвинительной формуле — кредитор предполагает, что директор все украл, а последний должен доказать обратное. И это не подтверждает «обвинительный уклон», это правило доказывания — бремя доказывания обоснованности действия лежит на том, кто его совершает. Для этого начать надо с того, какие действия, собственно, совершались.
После тезиса об обвинительном уклоне серьезного разговора о банкротстве дальше не будет. Другое дело на нашем канале. Здесь разговоры серьезные, как в известной сцене с Хитом Леджером. Оставайтесь с нами!
