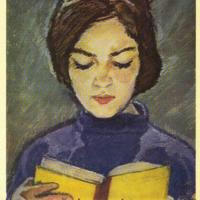
Уравнение оптимизма
1 711
Subscribers
+524 hours
+167 days
+14530 days
- Subscribers
- Post coverage
- ER - engagement ratio
Data loading in progress...
Subscriber growth rate
Data loading in progress...
В романе В. Киселева девочка — Ольга — центральный персонаж. Она полностью контролирует повествование, именно ее ироничный и свободный взгляд на все, что ее окружает, составляет главный интерес романа. Однако парадокс в том, что одновременно Оля играет очень традиционную — маргинальную роль в тех сюжетных линиях, которые являются рудиментами жанра советского романа воспитания. В книге есть свой «мальчишеский круг»: тайный химический кружок, где трое товарищей с «мушкетером»
Витей во главе изобретают катализатор, который позволит людям осуществить мечту — научиться летать, как птицы. Ольга оказывается членом этой команды, потому что приятели не воспринимают ее как «настоящую» девочку.
Дружба, товарищество, братство, союзничество — все это предстает, несмотря на гендер главной героини, как исключительно мужская прерогатива. Дружба девочек не является предметом романного интереса. Вообще, кроме Оли, девочек в романе мало, а достаточно подробно изображена только одна: классная красавица Лена Костина, которую можно назвать антиподом главной героини. Оля описывает одноклассницу так:
Лена круглая отличница, лучшая ученица в нашем классе и, кроме того, она самая красивая девочка, может быть, не только в классе, но и во всей школе. У нее лицо, как на иконах, и черная коса, и темные глаза, очень большие, честное же слово, каждый глаз, как рот, и длинные, загнутые кверху ресницы, как у женщин на мыльных обертках. Но она не интересуется ни химией, ни историей, и, когда с ней разговариваешь, так уже через пять минут на тебя нападает страшная тоска.
Про Лену говорится также, что «у нее очень красивое лицо и мелодичный голос, а смех неприятный, как у людей, которые смеются только тогда, когда им самим этого хочется, как бы сознательно, а рассмеяться непроизвольно, просто от всей души — не умеют». Выдержанная, приличная, благоразумная Лена — активистка и «зубрила» — воплощает стереотипную женственность: она красива, послушна и полна социального здравомыслия. Когда ей открывают тайну птицелета, она спрашивает, зачем в таком общеполезном и пристойном деле вообще нужна атмосфера какой-то тайны и секретности: «.то, что вы занимаетесь химическими опытами, по-моему, скрывать совсем не нужно. И тем более делать из этого секрет и тайну».
Девочки изображаются в романе в основном в дискурсе соперничества и взаимного недоброжелательства, а с «девичественностью» связываются по преимуществу, если не исключительно, концепты телесного и чувственного. «Странное дело — девчонки нашего класса много говорят о любви, а Таня Нечаева и Вера Ги-мерфарб уже целовались с мальчишками». (Про удостоенных упоминания Веру и Таню мы еще узнаем, что у первой кривые ноги, а вторая — модница).
Когда Оля сама думает о себе именно как о девочке, размышляет о том, что значит быть девочкой, то на первый план выходят именно названные выше аспекты.
Когда я была маленькой, мне казалось, что лучше быть мальчиком, чем девочкой. Я уговорила маму купить мне штаны и стреляла из рогатки.
<...>
Роман ясно обнаруживает базовое противоречие советской женственности. Официальная идеология (школа и пионерия/комсомолия) внедряет в сознание девочки постулаты гендерного равенства и неограниченных возможностей выбора, но одновременно большинство фоновых повседневных практик и расхожих представлений глубоко патриархатны и пронизаны убеждением, что женщина может быть счастлива только на проторенных путях реализации традиционных стандартов женственности. То есть надо выбирать: быть счастливой или быть странной девочкой/женщиной, но зато реализовать себя.
Ирина Савкина
««Друг мой, Ольга»: перечитывая роман В. Киселева „Девочка и птицелет“
💯 61🔥 14😢 9👍 4❤ 3
Ключевым понятием для описания стратификации общества у Базальи, как и у других антипсихиатров, является власть. Власть – это основное достояние общества, к которому оно подпускает некоторых своих членов, это то, благодаря чему общество поддерживает свое существование и осуществляет регулирующие функции. Отношения власти реализуются благодаря насилию и исключению. «Насилие и исключение, – пишет Базалья, – лежат в основе социальных отношений нашего общества. Распределение насилия зависит от потребности тех, кто обладает властью замаскировать и сокрыть его, для этого создаются институции, начиная от патриархальной семьи и публичных школ и кончая тюрьмами и лечебницами. Насилие и исключение оправдываются как то, что необходимым образом сопровождает реализацию предписываемых законом образовательных задач (семьи и школы) или регулятивных функций (тюрьмы и лечебницы)»
Базалья вписывает проблему психического заболевания в широкую перспективу идеологии отклонения и представляет ее как одну из важнейших проблем капиталистического общества. Традиция насилия и исключения – это давняя традиция европейской истории и европейского общества, всегда основанного на разделении между бедными и богатыми. Это исключительно экономическое разделение во все времена приводит к появлению ложных дихотомий – «хорошее и плохое», «здоровое и больное», «приемлемое и недопустимое». Только насилие, на его взгляд, заставляет общество производить эти дихотомии, и это насилие реализуется на всех уровнях социальной системы.
Базалья подчеркивает, что понятие нормы и отклонения тесным образом связано с идеологией производства и логикой капиталистического общества. Носители отклонения, как правило, не поддерживают ценности капиталистического общества и поэтому вытесняются на его окраину.
<...>
Современное капиталистическое общество переходит к цивилизованным формам насилия. Именно это имеет в виду Базалья. Насилие никуда не исчезает, просто на место грубым формам его реализации приходят замаскированные и едва заметные формы: на место кнуту приходит лечение. Главное – чтобы в насилии исключенный больше не мог распознать насилие, главное, чтобы он думал, что это он виноват в том, что с ним проделывают и проделывают для его же блага. Это позволяют обществу сделать и многочисленные посредники – социальные психиатры и психотерапевты, социальные работники и индустриальные социологи – новые администраторы насилия. «Их задача, обозначенная как руководство и терапия, заключается в том, чтобы адаптировать людей к принятию ими положения “объектов насилия”. Пути адаптации могут быть разными, но единственной реальностью, которая допускается, является насилие»
Ольга Власова
Антипсихиатрия. Социальная теория и социальная практика
❤🔥 28💯 20🔥 8
Представление о том, что триумф глобализации и неолиберализма был неизбежен, стало общим местом. Но это не так. Своим появлением они настолько же обязаны правительственной политике, насколько в 1930-е годы ей были обязаны корпоративизм и фашизм.
Неолиберализм разработали и внедрили дальновидные политики: Пиночет в Чили, Тэтчер и ее ультраконсервативное окружение в Великобритании, Рейган и рыцари «холодной войны», которые привели его к власти. Они столкнулись с массовым сопротивлением со стороны профсоюзов, которое им быстро надоело. Эти пионеры неолиберализма сделали выводы, которые предопределили нашу эпоху: по их мнению, современная экономика не может сосуществовать с организованным рабочим классом. Соответственно, они решили проблему, полностью уничтожив коллективную переговорную силу, традиции и социальную сплоченность трудящихся.
Профсоюзы подвергались атакам и ранее, однако нападали на них патерналистские политики, которые стремились к меньшему из зол: вместо борьбы с рабочими они поддерживали «хорошую» рабочую силу, придерживавшуюся умеренного социализма, и профсоюзы, управлявшиеся ставленниками государства. И они помогли построить стабильные, консервативные с социальной точки зрения сообщества, которые могли быть питательной почвой для появления солдат и слуг. Общей программой для консерватизма и даже для фашизма было стимулирование солидарности другого рода, такой, которая служила усилению позиций капитала. Но это все-таки была солидарность.
У неолибералов на уме было нечто другое – атомизация. Поскольку сегодняшнее поколение видит только результаты неолиберализма, оно легко упускает тот факт, что эта цель – уничтожение переговорной силы трудящихся – была сутью всего проекта: это было средство для достижения всех остальных целей. Ведущий принцип неолиберализма заключается не в свободных рынках, бюджетной дисциплине, твердых деньгах, приватизации или переносе производства за рубеж – и даже не в глобализации. Все это лишь побочные продукты или орудия для достижения главной задачи – устранения профсоюзов из уравнения.
Не все промышленные страны следовали по одному и тому же пути или в одном и том же ритме. Япония в 1970-е годы стала первопроходцем в области гибкого режима работы, внедрив принцип работы маленькими командами на конвейерах посредством заключения договоров об индивидуальной зарплате и громких пропагандистских собраний на фабриках. Япония была единственной из всех развитых экономик, которая после 1973 года сумела успешно рационализировать модели ведения бизнеса в промышленности. Разумеется, не обошлось без сопротивления, с которым расправлялись брутальными методами – зачинщиков хватали и избивали каждый день до тех пор, пока сопротивление не прекращалось. «Кажется, будто для “мира бизнеса” законы государства не писаны, – писал японский левый активист Муто Ичийо, который сам стал свидетелем таких избиений. – Поэтому естественно, что в этом мире бизнеса рабочие, остолбенев от ужаса, не смеют мыслить свободно и держат рот на замке».
Германия, напротив, сопротивлялась трудовым реформам до начала 2000-х годов, предпочитая создавать периферийную мигрантскую рабочую силу в сфере низкоквалифицированных услуг и в строительстве при сохранении патерналистского мира конвейеров. За это журнал The Economist обозвал ее «больным человеком Европы» и еще в 1999 году раскритиковал ее «раздутую систему социального обеспечения и чрезмерные издержки на рабочую силу». В 2003 году они были устранены вторым пакетом трудовых реформ Харца, которые превратили Германию в общество, где царит неравенство, а многие социальные группы погрузились в бедность
Пол Мейсон
Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему
👍 32😢 19🔥 1
Феномен мужского взгляда, подробно описанный в феминистском дискурсе, например, Лаурой Малви, работает здесь в полной мере. Женщина смотрит мужским взглядом не только на своё тело, но и на тела других женщин – как если бы она в этот момент становилась выбирающим мужчиной, перед которым представлен некоторый ассортимент женских тел. Наилучшая иллюстрация этого процесса – мужские сетевые сообщества и пресса, где регулярно проводятся голосования за самую красивую женщину. Механизм выбора и роль жюри настолько быстро усваиваются мужчиной, что в сети даже вне условий конкурса он по привычке сопоставляет женщин между собой по важным для него параметрам и, не стесняясь обидеть подписчиц мужских сетевых групп, зная, что они увидят написанное, комментирует, чем именно одна женщина хуже другой, не особо стесняясь в выражениях. Женщины, между тем, смиренно приемлют критику и отправляются работать над собой, чтобы однажды всё-таки стать приемлемыми.
Впрочем, аналогичная привычка комментирования женских тел характерна и для повседневности: на работе, на отдыхе, дома, в гостях мужчина оценивает женщину, комментирует наблюдаемое, и видит в этом некую природную предзаданность – как если бы половина общества только и должна была быть создана исключительно для того, чтобы его глазу было отрадно, а душе – спокойно за то, что все эти существа – другого порядка.
Женщина быстро осваивает подобный взгляд и ревностно следит за тем, чтобы удовлетворять максимальному количеству критериев, выдвигаемых ей мужским миром. В других женщинах, как и в себе, она не различает субъекта, не чувствует человека, но видит лишь сопоставимые с ней объекты, находящиеся, между прочим, в условиях принудительной конкуренции за мужской взгляд. В этом смысле нет ничего удивительного в том, что женская дружба становится явлением, о реалистичности которого спорят: человек, отчуждённый от своей самости, от собственной личности, редуцированный к одному лишь проявлению, - не в состоянии различить самость другого – что, между тем, необходимо для дружбы. В ситуации латентного патриархата большинство женщин находятся в таком состоянии, что, безусловно, делает проблематичными интеллектуальные, психологические и эмоциональные связи между ними. В условиях Стокгольмского синдрома конкуренция за внимание «законодателя» есть реакция на осознание опасности стигмы в случае его недовольства. В самом деле, самой отталкивающей чертой в женщинах 100% респондентов (мужчин) проведённого опроса назвали непривлекательность и неженственность. Стоит ли после этого комментировать женскую зацикленность на внешности и зависть, питаемую к другим женщинам?
Крайне любопытна, при этом, реакция женщин, идентифицировавшихся с агрессором, на женщин, отказавшихся от такой идентификации. Как правило, она располагается в диапазоне от изумления до агрессивного высмеивания. Сам факт наличия сценария, альтернативного «классическому», не может не пугать их. И не интриговать. Впрочем, чтобы он внезапно не оказался более привлекательным, лучше всего как можно скорее его дискредитировать, иначе придётся, во-первых, покидать зону комфорта, а, во-вторых, предпринимать непривычные усилия, и всё это – без однозначных гарантий. На такое мало кто захочет пойти. Именно поэтому женщины выказывают подозрение, а затем и неприятие любых женских ролей, отличных от патриархально общепринятых. Это неприятие фиксируется в риторике осуждения «отступниц», которым пророчат дальнейшее запоздалое мучительное раскаяние, страдания и гибель в невыносимых условиях. Что, впрочем, вполне правдоподобно, поскольку подобные условия создаются обществом, а общество состоит именно из этих самых женщин и оценивающих их и других женщин – мужчин.
<...>
💯 59👍 11🔥 10😢 2
Женщины, идентифицировавшиеся с агрессором, солидаризировавшиеся друг с другом как объекты одного типа и одной системы, приучившиеся смеяться над оскорблениями, - не готовы к травматичному опыту осознания факта не единственности подчинившей их системы и предлагаемых ею наслаждений. Это означало бы осознать ситуацию своего рабства, по поводу которого теперь пришлось бы делать выбор: предпринять усилия для того, чтобы выйти из него (то есть пойти на риск), остаться внутри с тягостным осознанием золотой клетки, или вытеснить и забыть знание об альтернативных сценариях и об альтернативном наслаждении. Последний сценарий наименее обременителен. Именно поэтому (девочек учат избегать рисков), реализуя его, объективированные и объективирующие друг друга женщины солидаризируются с мужчинами в остракизме женщин - «отступниц». Именно поэтому так часто можно слышать, как ещё вчера завидовавшие друг другу женщины сплотились, осуждая третью женщину, рискнувшую не соблюсти феминные комильфо; именно поэтому женскому осуждению подвергаются феминистки, женщины, занятые в науке, искусстве, женщины, избегающие салонов красоты, не разбирающиеся в моде, не стремящиеся замуж, не искушённые в кулинарном искусстве, не читающие женских журналов (этих наилучших инструкций по идентификации с мужчиной), и так далее.
Таким образом, внутренняя мизогиния – это качество, приобретаемое женщиной в процессе гендерной социализации, и ориентирующее её на объективацию самой себя и других женщин; на отказ от того, чтобы видеть полноценного субъекта в себе и в них; на полицейскую функцию в отношении женщин, не осуществляющих идентификацию с «агрессором». В сущности, внутренняя мизогиния - это последняя степень отчуждения женщины от самой себя и радикальная форма интернализации власти – мужской власти. Интернализованная, эта власть действует в женщинах от лица мужского сообщества, но под видом биологического детерминизма, осуществляя контроль и санкции в отношении всех, кто является её объектом.
Мария Рахманинова
Феминность в патриархальной традиции: к вопросу о женской глупости, зависти и меркантильности
💯 88👍 18😢 13❤ 2
Он просто эгоистичный осел или наглый психованный эгоистичный мудак?
Он нарцисс или просто эгоистичный осел? Этот вопрос ставит в тупик и жертв абьюза, и сторонних наблюдателей. Я встречала и тех и других. Они бывают обоих полов, любой национальности и сексуальных предпочтений. Я и сама, безусловно, бывала эгоисткой. И вела себя как настоящий осел.
Каждый, кто пережил нарциссический абьюз, знает, что есть огромная разница между эгоистичным ослом и наглым психованным эгоистичным ослом. С обычными эгоистичными ослами у нас не бывает травматических привязанностей. Из-за самого обычного эгоистичного осла не может быть никаких помешательств, панических атак, пищевых расстройств, психических болезней и душевной опустошенности. Общаясь с самым обычным эгоистичным ослом, мы не начинаем подозревать в каждом мужчине маньяка и не сомневаемся в своей способности отличать реальность от иллюзий.
Эгоистичные ослы дают обещания, которые не исполняют. Они редко извиняются. Они не блещут интеллектом. Они пассивно-агрессивные – и да, они слабые. Они ставят нас в дурацкое положение. Они не делятся своими чувствами, даже когда партнер невероятно щедр и открыт. Они исчезают из-за малейшего пренебрежения, поскольку не способны преодолеть никакие трудности. Некоторые из них выплескивают свой гнев, раздражение и жалобы всем встречным и поперечным, изображая из себя жертву.
Эгоистичные ослы часто ошибаются, но говорят, что не хотят никому причинять боль. Если загнать их в угол, некоторые даже извинятся и постараются измениться. Они срываются. Иногда они срываются из-за пережитого в прошлом абьюза. Боясь отвержения, они бегут, поджав хвост, заверяя при этом, что на их слово можно положиться.
Эгоистично-психованные ослы (психопаты и социопаты) тоже делают все вышеперечисленное, но при этом испытывают садистское наслаждение от чужой боли. Они замышляют недоброе, разрабатывают коварные стратегии, планируют и закладывают душераздирающие эмоциональные мины замедленного действия, а потом улыбаются, словно невинное дитя, глядя на сотворенную ими бойню.
<…>
У эгоистично-психованного осла не бывает прозрений относительно своего поведения, побуждающих его измениться. Эгоистично-психованные ослы прекрасно понимают, что они делают, и считают себя вправе делать все, что им заблагорассудится. Они знают, но не чувствуют – большего им не дано. Презрение – вот чем они платят за обожание, пользуясь людьми, словно расходным материалом. Иногда они делают это от скуки. А иногда потому, что появляется новая, более привлекательная жертва.
Эгоистичные ослы также используют социальные сети для оскорблений, потому что им тяжело дается личная конфронтация. Они прячутся за стопроцентной уверенностью в своей правоте и потакают собственной слабости. Они не хотят причинять боль, они сами страдают от боли, этим и объясняется их поведение. Напротив, психопаты не испытывают никакой боли. Они охотятся ради самой охоты.
Хотя мы на собственном опыте знаем разницу между этими типами людей и подробно изучаем разрушительное действие нарциссического абьюза, все же подойдем к этому вопросу ответственно. Не каждого можно назвать социопатом, или психопатом, или даже полноценным нарциссом. Некоторые люди просто-напросто эгоистичны (иногда или всегда). Перечеркивать всю опасность нарциссического абьюза, называя каждого эгоистичного осла членом сатанинского клуба психопатов, вредно для наших целей.
Что делать с эгоистичными ослами? Дать отпор и забыть о них. С эгоистично-психованными ослами нужно прервать общение полностью и навсегда. Иначе они воспользуются вашей добротой, чтобы уничтожить вас, с превеликим удовольствием вырвут вам сердце, да еще и убедят вас вернуться за очередной порцией страданий.
Кристин Уокер
👍 47🔥 14❤ 6😢 1
Важную роль в превращении молодых женщин в «идеальных неолиберальных субъектов», как утверждает Разерфорд, сыграл постфеминизм. По мысли постфеминистских авторов, гендерное равенство достигнуто, и потому женщины могут вести независимую агентную жизнь, делая свободный выбор в том, что касается их тела, сексуальности и повседневного потребления. Активной агентности от женщин ожидают в самых разных сферах, от диет и косметических операций до секс- и психотерапии. В большинстве подобных практик участвуют и психологические дисциплины, которые, по мнению Разерфорд, в первую очередь несут ответственность за феминизацию неолиберальной субъективности. В связи с этим автор статьи призывает представителей критической феминистской психологии выяснить, где и как именно происходит эта феминизация, кто от нее выигрывает, кто ей противостоит и во что это выливается. Кроме того, Разерфорд полагает недопустимым проникновение неолиберальных и постфеминистских тенденций в саму феминистскую психологию. Напротив, она желает, чтобы феминистская психология проблематизировала и обновила представления о женском эмпауэрменте, уже интегрированные в неолиберализм, а также нашла способы возрождения интереса к социальному и политическому активизму и, в конечном счете, пути преодоления неолиберального доминирования.
Эмпауэрмент, пишет Разерфорд, является центральным понятием как феминизма, так и постфеминизма. Это понятие обрело род в 1990-е годы, когда стало очевидно, что оно прежде всего касается женщин, точнее, девушек. Девичьи музыкальные группы, от Bikini Kill до Spice Girls, популяризировали своим творчеством идею «девичьей силы» (girl power). Постепенно движение «девичьей силы» приобрело коммодифицированные очертания, акцентируя скорее индивидуальную самореализацию, нежели коллективный протест. Важнее стало чувствовать себя наделенной силой, чем быть таковой. Д. Беккер проследила трансформацию представления об эмпауэрменте как о доступе к ресурсам в идею внутренней силы в психотерапии2. Тем самым реальные ресурсы по-прежнему принадлежат богатым и власть имущим (которыми традиционно были мужчины, сейчас к ним присоединилось некоторое количество женщин), а остальным остаются лишь иллюзии. В настоящее время образ «девичьей силы» в рамках «дискурса потенцированного развития» (empowerment development discourse) проецируется и на девушек из стран третьего мира, на которых тем самым возлагается роль двигателя будущих социальных и экономических изменений. При этом, замечает автор, игнорируются такие факторы, как наследие колониализма и эксплуатации, сохраняющееся (отнюдь не позитивное) влияние «развитого» мира, политическая нестабильность и насилие, последствия природных катастроф и т. п. По словам историка-феминистки М. Мёрфи, «девичьи проекты заинтересованы в инвестировании в девушек как в индивидов, а не в выстраивание систем общественных школ».
Еще одним краеугольным камнем неолиберализма и постфеминизма, изначально почерпнутым в феминизме, является идея агентности и выбора, указывает Разерфорд. В постфеминизме женская агентность и возможность выбора носят повсеместный, ничем не ограниченный характер, так что упоминать о несправедливости и ущемлении прав женщин, тем самым признавая себя и других женщин жертвами, просто стыдно. В результате затушевывается структурное социальное неравенство, т.е. налицо отказ от наследия политически активного феминизма. Девушки перестают проявлять сострадание и к самим себе, и к другим. Всегда и во всем они должны демонстрировать свободный выбор, включая собственную сексуальную жизнь. В этой сфере осуждению подлежат как чрезмерная сексуальная распущенность, так и излишняя пуританская скромность, поскольку ни то, ни другое не может свидетельствовать об осознанном ответственном выборе.
Я.В. Евсеева
Разерфорд А. Феминизм, психология и феминизация неолиберальной субъективности: от критики к преодолению неолиберализма
❤ 58💯 26❤🔥 3
В общественном дискурсе основной и главный запрет - на женскую субъективность. Он завуалирован и размыт, местами практически незаметен, но именно на нем держится представление о женщине как об объекте потребления.
В обществе не принято говорить о женском всерьез. Традиционно женское - женщину и ее мир - рассматривают как нечто отдельное и не представляющее интереса и ценности, при том, как мужское рассматривается с огромным вниманием, изучается, переосмысливается и переписывается непрерывно. Достаточно вспомнить, что женщина и женское тело в искусстве, философии, истории, биологии, медицине и т.д. репрезентуются как Другие, в отличие от нормативно-установленных - мужчины и мужского тела, и так же и изучаются, и описываются - эпизодически, в виде исключения, с поправками "у женщин, в отличие от...".
Наглядный тому пример - медицинская литература: глобальные исследования и многостраничные описания мужского полового органа, и, для сравнения, теме клитора в медицинских изданиях в лучшем случает уделяется несколько страниц, в худшем - эта информация просто отсутствует. В обществе вообще не принято говорить о женском теле и его процессах как о нормальных, физиологичных и естественных. И это прекрасно иллюстрируют, например, вопли от "возмущенных мужчин", когда речь заходит об менструации или климаксе - "это же просто неприлично!". Если послушать их рассуждения, то и быть женщиной - это тоже крайне неприлично и они бы никогда на это не согласились.
Говоря о женщинах в массовом дискурсе (в литературе, кино, СМИ, в многочисленных рекламных роликах, в телесериалах, в женских романах) принято ограничивать темы, сводя их к одной - "как женщине улучшить свои продуктово-потребительские качества, и почему она сама должна этого хотеть". Откройте любой женский журнал/сайт и убедитесь - там нет никаких других тем. Вообще. Нет ничего о том, что женщина - субъект, свободная личность и прочих "глупостей", и, даже если вам удастся найти статейки об "успешных женщинах", авторы обязательно упомянут об их семейном положении, потому что вне семьи успешность ни значит ничего, кого интересует карьера продукта, если он невкусный и никто его не ест?
Противовесом общественному дискурсу становится то, что пишут женщины сами - "женское письмо", и основанное на этом новое понимание женской субъективности. Создание слов и понятий, попытки говорить о том, что всегда было запрещено (грязно, постыдно, глупо, неодобряемо и т.д.), поиск собственных определений и отношения к сказанному - это все то, через что неизбежно пройдет процесс возвращения слова женщинам. Мы постепенно понимаем, что нам доступно говорить обо всем и понимать все, не существует никаких гендерных ограничений на интеллект, кроме искусственно придуманных.
Все, что описывается и перепроговаривается сейчас в фем-сообществах, все темы, которые поднимаются, и все ограничения на выражение своего мнения, которые постепенно преодолеваются - это признаки успешного продвижения этого процесса. Пока нет слов - нет понятий, нет смыслов, они в полной мере появляются только с рождением слов, и тогда им находится место в сознании. Мы движемся от интуитивного мышления (без слов, без оценок и сравнений) к дискурсивному, которое позволяет находить логические связи, оформлять в слова понимание, делиться смыслами. И не нужно ожидать, что все, написанное женщинами на этом пути, будет шедеврами словесности. Гораздо важнее, чтоб оно просто было.
cat_gekata
💯 98❤ 26👍 8🔥 8
У Нади Казанцевой был похожий путь. Она влюбилась в Евгения Казанцева, бас-гитариста московской рок-группы. Поначалу ее родители присматривали за ребенком Нади и Жени, когда те путешествовали в компании своего приятеля — Андрея Мадисона. Но ее дружба с Офелией, а следовательно, и ее основная связь с сообществом хиппи оборвались. Была одна вещь, в которой Надя не хотела следовать за Офелией: наркотики. Однажды Офелия пригласила ее с собой на вечеринку, где было много молодых хипповского вида людей, и все они потребляли наркотики. Надя испытала сильное разочарование. Но последней каплей стал разговор с представителями спецслужб в районном отделении милиции, где ее расспрашивали о совместной поездке с Офелией в Литву. У нее в то время уже был на руках грудной младенец, и кагэбэшник очень недвусмысленно намекнул на лишение родительских прав. Надя понимала, что теперь она должна действовать в интересах своего ребенка, а не Офелии.
Подобные истории давления со стороны КГБ и самоцензуры повторялись много раз, вытесняя женщин-хиппи из движения в обычную жизнь. Сообщество хиппи менялось и раскалывалось, но неважно, чем занимались в нем люди: пили, принимали наркотики или медитировали, — места для женщин с детьми там практически не было. Для мужчин с детьми там места тоже не было, но им было проще уйти. Мужчины, ставшие отцами, чаще всего непродолжительное время пытались жить семейной домашней жизнью, но после все бросали и возвращались обратно. Для женщин материнство обычно означало конец хипповства. Рита Дьякова описала этот процесс как «десоветизацию», но только физическую, а не духовную: «В принципе, потом-то я все равно сделала как все, ближе подошла к традиционному советскому обществу, когда появились дети, когда появилась семья. Просто вынуждена была вернуться в границы. Но мозги, образ мыслей уже не переделаешь, так параллельно и живем»
Юлиане Фюрст
Цветы, пробившие асфальт. Путешествие в Советскую Хиппляндию
❤ 67💯 14👍 11😢 9🔥 5
Самыми большими врагами для женщин-хиппи были время и возраст. Хипповская культура жила сегодняшним днем и отрицала взросление. Хиппи были детьми цветов — питерпеновскими созданиями, цеплявшимися за свою невинность и отказывающимися участвовать во взрослой жизни. У них не было плана действий, который помог бы им ориентироваться по мере взросления и старения, потому что возраста как фактора, меняющего жизнь, на планете хиппи не существовало.
Для СССР это было верно вдвойне, как из‐за особой культуры советских хиппи, так и из‐за притеснений, в условиях которых им приходилось существовать. В своем отрицании советской повседневности они были квазиантинаталистами (антинаталисты — сторонники ограничения рождаемости. — Прим. пер.). Преследования со стороны государства приводили к тому, что их экспериментальная жизнь в коммунах была опасной и никогда не длилась дольше нескольких месяцев. В отличие от Запада, где семейная жизнь и дети быстро стали одной из областей, в которой хиппи пробовали новые формы общественной жизни, в Советском Союзе хипповство оставалось тяжелой «профессией», требующей молодости, сил и выносливости. И если мужчины могли жить активной хипповской жизнью на протяжении нескольких десятилетий, хотя и сильно рискуя здоровьем, то женщины вскоре сталкивались с обстоятельствами, при которых им приходилось делать выбор. Семья и материнство были несовместимы с образом жизни, в котором особое значение придавалось непрерывному пьянству или употреблению наркотиков, изнурительным длительным путешествиям, для которого требовалась особая выносливость в условиях постоянных тяжелых физических невзгод: частое недоедание, сильный холод, лишения, а еще постоянный риск быть арестованным или насильственно помещенным в психиатрическую больницу. В дополнение ко всему вышеперечисленному возраст был испытанием для женской хипповской идентичности, поскольку движение бескомпромиссно прославляло молодость и красоту, которые неизбежно исчезали с возрастом, — ну или так считали советские женщины-хиппи.
Большинство женщин покидали хипповские компании, когда выходили замуж или уже после рождения ребенка. Рассуждения Риты Дьяковой были общераспространенными среди девушек-хиппи, которым внезапно приходилось выбирать между разнообразными требованиями и поисками своей идентичности: «Долгое время я тусовалась ежедневно. А когда поняла, что будет ребенок — нужны же деньги, нужно его кормить, — я устроилась на работу и стала нормальным советским гражданином. Правда, я не стала устраиваться по специальности, устроилась в газетный киоск, торговала газетами, там рабочий день был короче, в два уже можно было закончить».
❤ 45😢 16🔥 11👍 5
Choose a Different Plan
Your current plan allows analytics for only 5 channels. To get more, please choose a different plan.
