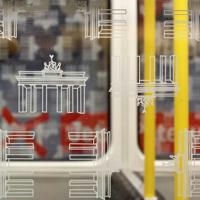
Берлинские истории журнал покажет наш
1 486
Підписники
-124 години
+37 днів
+730 днів
- Підписники
- Перегляди допису
- ER - коефіцієнт залучення
Триває завантаження даних...
Приріст підписників
Триває завантаження даних...
Побывала второй раз в Шпандау (идут постоянные споры, считать ли этот город-спутник частью Берлина или он такой неберлинский, что это не очень корректно) и могу сказать: по вайбам Шпандау — это Выборг.
Есть и старина, и что-то всрато-наивное попадается, и добраться до большого города можно, и есть своя какая-то атмосферка. Кафетерии тоже очень выборгские. И набережная. Но ехать ближе.
❤ 8❤🔥 3
Я два года назад:
— Нужно строить своё локальное сообщество! Находить людей, сближаться, поддерживать друг друга!
Я сейчас:
— Надо посетить три дня рождения близких друзяшек на этой неделе и два на следующей 🫣
❤ 28🔥 9😱 9
Repost from Душнильский немецкий мит Арсений
Я не знаю точно, почему так, но есть гипотеза. Конечно же крайне душнильская.
Учить новый язык очевидно тяжелее, чем говорить на уже хорошо знакомом, пусть и неродном.
Когнитивных усилий требуется сильно больше. А слова нового языка мы постоянно загружаем в гиппокамп, т.е. в рабочую память. Туда вообще изначально загружается все новое, чтобы лежало "под рукой", и после проверки необходимостью перемещается в долговременную память.
Английский у нас уже в долговременной памяти. Лежит себе тихонько и активируется когда надо.
Немецкий же активно напихивается в этот самый гиппокамп. Лежит не просто "под рукой", но на самом видном месте.
Можно представить так, что английский разложен в каталоге в вашей библиотеке, где его искать привычно и удобно, а немецкий разбросан по всей квартире, на столе, диване, на полу, на кухне и даже в туалете на рулоне туалетной бумаги у вас немецкие слова.
И вот вам нужно подойти к английскому книжному шкафу, чтобы достать из него слово "onion".
Но по пути вы спотыкаетесь и падаете лицом прямо в ZWIEBEL.
И такие лежите, из носа идет кровь, коленку ушибли и говорите себе: "ну ладно, ЦВИБЕЛЬ ТАК ЦВИБЕЛЬ".
😁 26💔 10💯 7❤ 4
Увы, всё так.
Смотрю второй штафель Друзей. Как штафель на английском — а пёс его знает. Хотя раньше знала и я.
😁 3
Фото недоступнеДивитись в Telegram
«Я здесь только по той причине, что мне нужно было уехать» — очень рилейтебл ❤️🩹
💔 33
Оберіть інший тариф
На вашому тарифі доступна аналітика тільки для 5 каналів. Щоб отримати більше — оберіть інший тариф.
