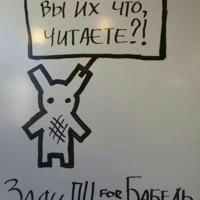Надежда Санжарь, дочь крестьянина и донской казачки, самоучка и, чего уж, графомана, ведшая переписку с Блоком, автор многочисленных рассказов и строитель собственной поразительной утопии (которой она, замечу, пыталась следовать всю жизнь), в 1910-м году опубликовала, с помощью мужа, просто-феминистский автобиографический роман «Записки Анны», основанный на собственных дневниках, которые Санжарь — по ее словам — вела с одиннадцати лет. В этой удивительной книге она не только поведала о непростой жизни простой, но привлекательной девушки, не только рассказала несколько шокирующих историй из своей — или придуманной, не столь важно, —биографии, но и совершила отчаянную попытку художественным языком донести до широких народных масс свои «передовые» взгляды.
Сторонница правды — в противовес художественности, — Санжарь ещё в 1907-м приняла решение «образумить» мир, причем не только словом, но и делом, а именно —«дать нашему обществу моего человека [...] чтобы дети здоровых, сильных, человечных людей вытеснили бы, в конце концов, убогих выродков». Она буквально предлагала стать отцом своего ребенка, например, Вяч. Иванову и другим заслуженным людям своего времени, впрочем, безуспешно. После этого она пыталась создать своеобразную мастерскую по перевоспитанию в детей-сирот в настоящих людей. Но не забывала она и о силе слова — собственно, снискавшие некоторую известность, скорее всего, за счёт своей экстравагантности «Записки Анны» и выражают эти идеи (и, заодно, то, как главная героиня до них дошла). А уже после, в начале десятых годов, Санжарь занялась «исследованием человеческой сущности». Рождённая ею новая идеология, основанная на взаимосвязи всего сущего, будь то добро и зло, радость и горе, вред и польза, выразилась в довольно-таки безумном труде «Книга о человеке. Первая».
В первые годы советской власти Санжарь, воспринявшая идеологию большевиков как воплощение собственных идей, активно работала в советских органах, общалась с Серафимовичем, моталась между Москвой и Украиной и совершенно ощущала себя в своей тарелке, пока в 1922 году, не получив партийной поддержки в своих утопических идеях, не вышла из партии и окончательно не осела в Москве. Здесь она совершила попытку сотрудничества с МАППом, где к собственным идеям об идеальном человеке присоединяет пролеткультовского человека-машину. В это время, после выхода нескольких отрицательных рецензий, в том числе и рецензии Воронского и нескольких доносов, Санжарь теряет возможность публиковаться, лишь под псевдонимом выходят несколько ее книг, в том числе переложение «Спартака». В 2933 году Надежда Санжарь умирает в одиночестве от рака; ее могила на Донском кладбище в Москве не сохранилась.
Только что вынутые из забвения «Записки Анны» Надежды Санжарь — поразительный ни на что непохожий документ эпохи русского авангарда и одна из сонма утопий, творимых в то время. Уникальность же этой книги в том, что это — эпатажная, неожиданная, порой безумная утопия, сотворенная женщиной, жившей и боровшейся за свои сумасшедшие идеи в абсолютно man's world. Безумная книга, предвосхитившая безумное время.